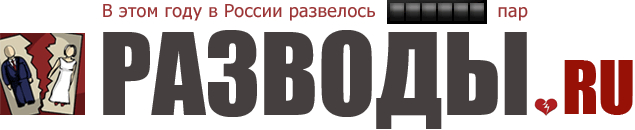Советский «алиментщик» всегда был объектом социалистической сатиры и всенародного неодобрения. «Алиментщик» современной России – еще более отвратительный персонаж с точки зрения честных граждан, ибо именно он – злостный уклонист – стал причиной множества неприятных правовых процедур. Алиментщика ловят совместные патрули ГИБДД и судебных приставов на дорогах, его ожидают засады в аэропортах и на вокзалах.
Однако, как это часто бывает, при травле волка уже забыта съеденная им овца. За общими разговорами о безответственности и падении нравов теряется финансовая составляющая проблемы – а выглядит она приблизительно так:
- 33% российских матерей одиночек претендуют на ежемесячную выплату суммы от ста до семисот рублей;
- 35% претендуют на полторы тысячи в месяц;
- 12% и 18% должны получать максимум две с половиной или шесть тысяч рублей соответственно;
Размеры этих сумм не должны, конечно, ставить под сомнения усилия государства по соблюдению правовых норм и надлежащему исполнению судебных решений, но всякий здравомыслящий гражданин, хотя бы изредка покупающий продукты, осознает ничтожность судебных претензий к подавляющему большинству алиментщиков.
Отчетливо начали сознавать их и претенденты, а вернее сказать, претендентки, на алименты, ибо процент мужчин, получающих от бывших жен выплаты на ребенка, в России стремится к нулю, тогда как в Соединенных Штатах, к примеру, составляет 16 % от общего числа родителей-одиночек.
Осознание ничтожности финансовых обязательств одного из супругов в случае развода приводит к тому, что российские женщины, либо, выражаясь по-простому «не подают на алименты», в лучшем случае уповая на совестливость кормильца, либо вообще не регистрируют брак и не оформляют должным образом отцовства в случае рождения ребенка.
В пользу первой версии свидетельствует следующая статистика. Если в 1992 году количество разведенных матерей одиночек составляло 57% ( остальные либо не были замужем, либо овдовели), то и через тринадцать лет – в 2005 – этот показатель практически не изменился и составляет 58%. Зато если в 1992 хоть какие-то алименты поучала почти половина разведенных матерей-попечителей (47%), то сегодня – только треть (31%).
Статистическое подтверждение второго фактора – популярности так называемых «гражданских» или, вернее сказать, «фактических» браков, практически исключающих возможность претендовать на последующую материальную поддержку партнера, поражает неподготовленного читателя.
В 2006 году почти треть – 29% детей в России родились вне брака. Более того – менее чем у половины этих детей (46%) в свидетельстве о рождении заполнена графа «отец», что хотя бы в теории, подразумевает возможность правового взыскания выплат с партнера, тогда как 54% детей, которых ранее назвали бы «незаконнорожденными», не могут рассчитывать вообще ни на какую поддержку.
Надежда на совестливость и моральные качества бывшего супруга – вещь приятная, но, как правило, безосновательная. По этому поводу существует не вполне корректная, но в сущности своей презабавнейшая выкладка.
В 1998 году 90% опрошенных мужчин-алиментщиков в шести городах России утверждали, что регулярно выплачивают назначенные судом суммы. Но по данным исследования московского комитета по алиментам, адекватные алименты получали лишь 12% разведенных женщин.
Вилка в 78% подразумевает, увы, не только нечестность российских мужчин. Вполне возможно, что они исправно отстегивали на ребенка 200-300 рублей в месяц. Упомянутые же 12% женщин получили от бывших мужей, не абы какие – но «адекватные» по мнению авторов исследования суммы. Это – внимание – половина потребительской корзины на ребенка.
Всякий, кто жил в 2000 году в России, помнит, что представляла тогда из себя пресловутая «потребительская корзина», и как она соотносилась с реальной стоимостью продуктов и услуг.
Так что, моральный облик бывшего супруга – вещь в финансовом и правовом аспекте весьма и весьма зыбкая, и никаких серьезных надежд на будущее благосостояние не внушающая. Законных же способов для «опекающего родителя» - назовем официально среднестатистическую российскую мать-одиночку - получить приемлемое содержание для ребенка практически не существует.
Мировой суд, рассматривающий подавляющее большинство бракоразводных процессов не будет расследовать споры о детях, удовлетворившись исковым заявлением с фразой «споров о детях нет», автоматически возложив содержание ребенка на опекающего родителя, то есть, говоря по-русски, на мать.
Суд федеральный в решении спора о выплатах будет исходить из расплывчатых формулировок законодательства, а главное – из той суммы доходов, которая у второго супруга подтверждена официально. При этом судья не может обязать его выплачивать на ребенка больше, чем требуется самому ответчику. Учитывая размеры официальных зарплат в России и их соотношение с официальным прожиточным минимумом, претендовать на вразумительные средства не приходится.
Остается лишь честно признать, что законопослушная европейская схема подтверждения доходов справкой о зарплате и налоговой декларацией вряд ли будет работать в стране, где из 10 угнанных в месяц «Лексусов» 9 – принадлежат безработным.
Упомянутые обстоятельства социологи списывают на так называемый «период социальной трансформации». Такая формулировка оправдывает практически все – и несовершенство закона, и неадекватность оценки доходов, и отчаянные попытки пар избежать в перспективе унизительного процесса выплат и получения алиментов. Однако, нельзя не признать, что трансформация несколько затянулась, и рассчитывать на адекватное решение вопроса со стороны государства в ближайшее время вряд ли приходится.
А потому – каждая пара сама выбирает способ обеспечения детей. И будь это олигархические отступные с шестью нулями, вменяемая сумма, указанная в брачном контракте, или раздел имущества – такая синица в руке, как видно лучше охоты в аэропортах на алиментщика-журавля.
Иван Сергеев специально для "Разводы.Ру"